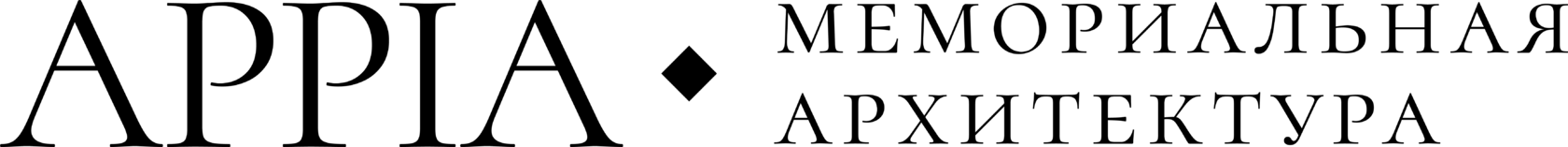Должен ли заказчик доверять архитектору или Причем тут Пушкин?
Первая часть вопроса вовсе не надумана и не взята с потолка. Это – отражение реальной жизни. Ведь, увы, не секрет, что бывают (и не редко) ситуации, когда родственники усопших, заказывая надгробие, искренне уверены, что они лучше всех дипломированных мастеров вместе взятых знают, как реализовать свои идеи о сохранении памяти дорогих им людей.
В итоге же, что тоже бывает нередко, созданные по таким «лекалам» памятники либо превращаются в пародию на память, либо не выдерживают испытание временем.
В любом случае, разрешение этой проблемы – тема деликатная и интересная. И именно поэтому, прежде чем перейти к конкретным нынешним нюансам, для начала обратимся в прошлое.
И в качестве примера расскажем историю создания надгробия Александру Сергеевичу Пушкину. Как его ближайшее окружение, – а в него входили люди не только именитые и благородные, но и, чего греха таить, излишне самоуверенные – предпочло сохранить память о нем?
Итак, как известно, это надгробие было установлено в 1841 году, т.е. спустя четыре года после погребения поэта в Святогорском монастыре. А вот с ответом на вопрос, кто является автором надгробия, все не так просто. И эта неопределенность как раз и является причиной многочисленных легенд.
По одной из них, автором выступил сам Пушкин, который передал эскизный набросок своей супруге незадолго до дуэли с Дантесом. Красивая история. Но ничем не подтвержденная. К тому же в богатейшей и разнообразнейшей по тематике «картинной галерее» на полях рукописей поэта, не встречается ничего похожего.
Согласно другой версии, автором памятника является Наталья Николаевна, тяжело переживавшая произошедшую трагедию и сделавшая из нее для себя не менее тяжелые выводы. Романтическая история. Но тоже ничем не подтвержденная. К тому же после установки памятника она не бывала на могиле Александра Сергеевича.
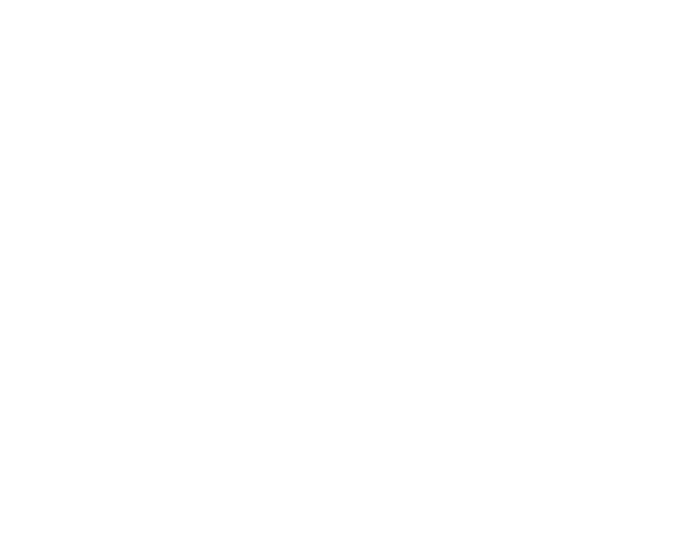
Хотя создание надгробия действительно не обошлось без ее участия. И в этом факте находятся истоки еще одной легенды, вернее уже целого «букета» ее версий. Дело в том, что самую деятельную помощь в облагораживании захоронения Наталье Николаевне оказывали ближайшие друзья поэта (в частности, Василий Жуковский, Петр Вяземский и Александр Тургенев) и граф Григорий Строганов.
Последний к тому же был председателем опеки над семьей и имуществом Пушкина. И именно он обратился к императору с просьбой даровать высочайшее разрешение на сооружение памятника на могиле поэта.
И как раз этих людей (и по отдельности и вкупе) некоторые исследователи считают авторами памятника. Основание одно – все они, якобы, были убежденными масонами. Иначе почему надгробие Пушкина является поистине архитектурной энциклопедией масонской символики?
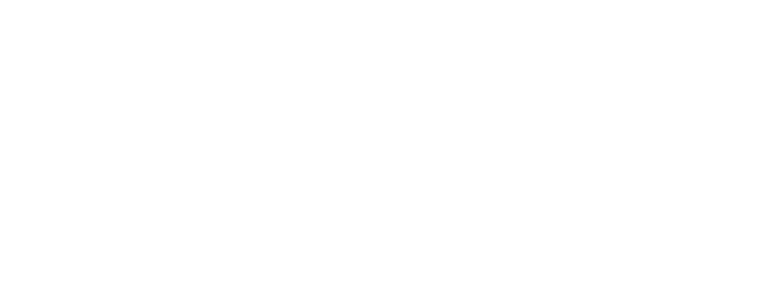
Тут вам и арка, и факелы, и подножие в виде пирамиды из ступеней, и лучезарная дельта, и звезды Давида. К ним, кстати, поклонники конспирологических версий проявляют особое внимание. Ведь на надгробии Пушкина можно насчитать 21 такую звезду!
Что тоже, мол, крайне не случайно. Считается, что это число имеет глубокий смысл в масонских ритуалах. А, кроме того, оно является еще и отсылкой к одноименной картежной игре и к той самой формуле «тройка, семерка, туз», которая стала ключевой в поэме Пушкина «Пиковая дама». Кто как не близкие к литературе (и, повторим, к масонству) люди могли такое придумать?
Ссылки на то, что все выше перечисленные «эмблемы» уже задолго до кончины Пушкина стали в мемориальной архитектуре полноправными христианскими символами (с христианской же смысловой нагрузкой), многочисленных апологетов таких легенд не убеждают.
Однако все же ближе всех к разгадке авторства надгробного памятника великому поэту оказались известный историк литературы и пламенный пушкинист Павел Щеголев и легендарный Семен Гейченко, сумевший после войны в буквальном смысле слова из пепла восстановить музей-усадьбу Михайловское.
Первый из них в 20-х годах прошлого века отыскал в архивах удивительный документ. Заголовок которого говорил сам за себя: «Счет по сооружению и отправке Псковской губернии в Монастырь Святыя Горы надгробного, покойному Александру Сергеевичу Г.[осподину] Пушкину Мраморного памятника».
Но главное, что благодаря этой находке стало известно имя мастера, который занимался изготовлением надгробия – Александр Пермагоров.
Поразительно, но документ не произвел фурор среди исследователей-пушкинистов и в полноценный научный оборот попал лишь спустя больше 20 лет, когда за него вплотную «взялся» Сергей Гейченко, восстанавливавший после войны музей-усадьбу Пушкина.
Вот тогда-то открылась удивительная история, связанная с мастером Александром Пермагоровым, а также с его вкладом в увековечивание памяти поэта и в развитие отечественной мемориальной архитектуры. Оказывается, он был потомственным уральским камнерезом, в 15 лет прибывшим в Северную столицу с артелью взрослых коллег, чтобы отточить свои навыки. Ему со временем удалось настолько проявить дарования, что он получил должность мастера на знаменитой Петергофской императорской гранильной фабрике.
Более того, вместе с другими лучшими специалистами этого предприятия он принимал участие в создании изысканного Малахитового зала в Эрмитаже. И своей работой привлек внимание самого Николая I.
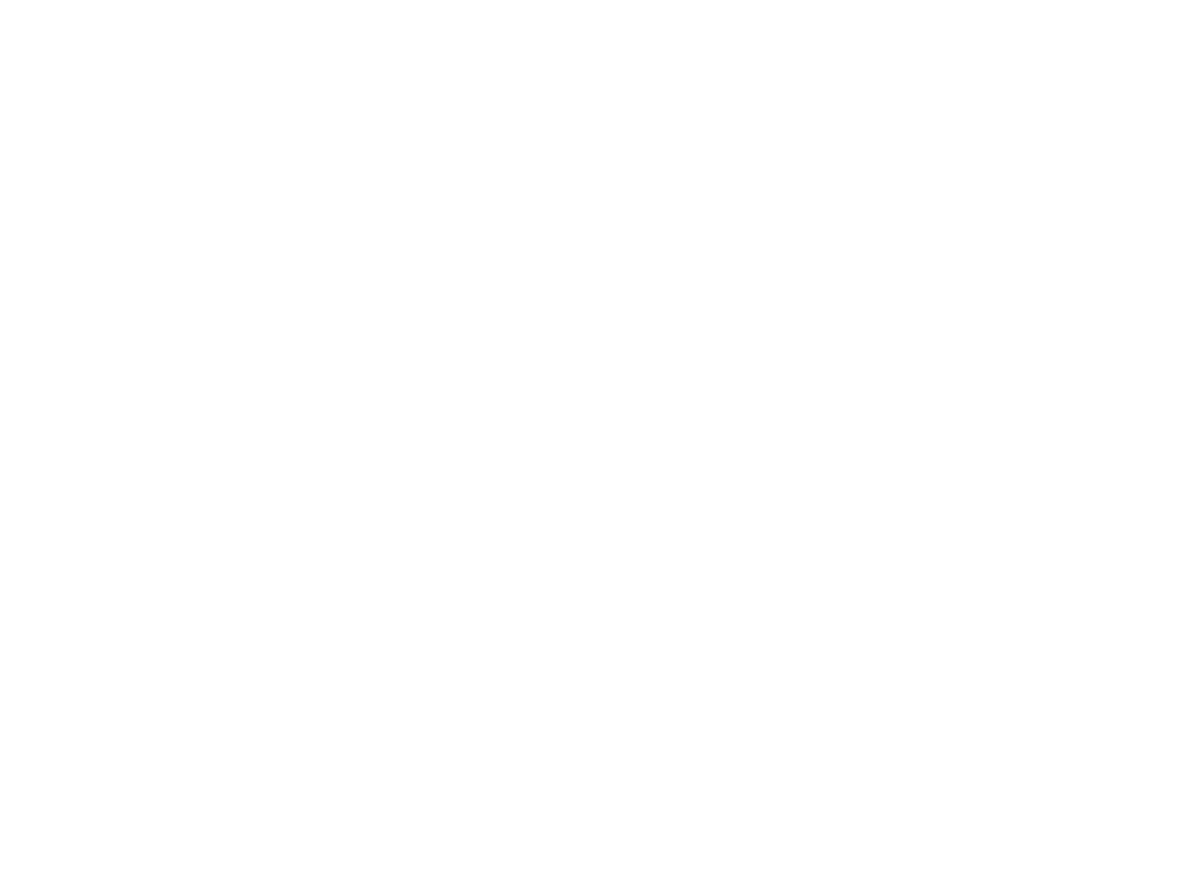
А теперь самое интересное: есть сведения, что именно император и порекомендовал этого мастера графу Григорию Строгонову (председателю Опеки над семьей и имуществом Пушкина), когда тот обратился с просьбой о разрешении на сооружение памятника на могиле поэта.
Опять легенда? Возможно. Но очень убедительная. Потому что к тому времени Александр Пермагоров получил известность в столице и как автор надгробий. Причем к нему обращались люди весьма именитые.
В Петербурге сохранилось три памятника с авторским «автографом» Пермагорова. И все они находятся на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры, что тоже многое говорит о статусе мастера.
Это надгробия на захоронениях молдавской княгини Смарагды Гике, дочери почетного гражданина Анны Пайщиковой и грузинского царевича Вахтанга Ираклиевича.
А главное, что в стилистике и в композиционном решении всех трех памятников четко прослеживается единый творческий почерк мастера, который легко угадывается и в надгробии Пушкина: та же форма обелиска, та же арка, та же погребальная урна. И те же элементы оформления с «масонской» символикой.
Именно поэтому Семен Гейченко высказал твердое предположение, что и автором «мемории» из итальянского мрамора на могиле поэта можно с полным правом считать Александра Пермагорова.
Сам же памятник, как явствует из найденного в архиве «Счета по установке…» весит около 270 пудов (т.е. чуть немногим больше 4 т.) и перевозился из Петербурга Святогорский монастырь на нескольких подводах, в виде двух основных каменных частей и пяти ящиков с мелкими деталями. А на его сборку и установку бригаде мастеров (также прибывших из Северной столицы) понадобилось почти два месяца.
Каков же вывод из всего этого длинного рассказа? А тот, что люди из окружения Пушкина, несмотря на свои титулы и образование, полностью доверились в разработке проекта надгробия для дорогого для них человека профессионалу своего дела. И не прогадали. Вернее, это пошло на благо увековечивания имени Александра Сергеевича Пушкина.